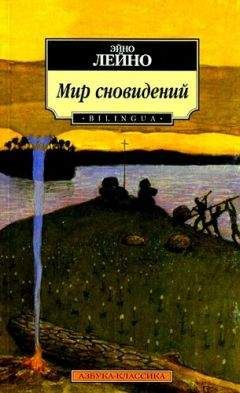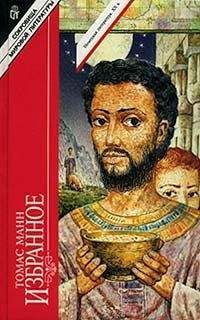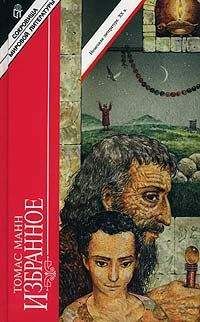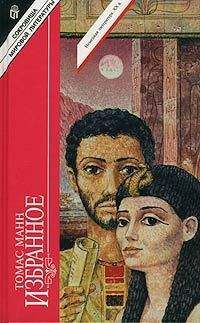Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]
Госпожа фон Ринлинген пошла, чуть пригнув голову, и указала вдаль, где в темноте парка исчезали элегантные, душистые цветники.
— Пойдемте по центральной аллее, — сказала она. В начале стояло два невысоких широких обелиска.
В самом конце прямой, как стрела, каштановой аллеи они увидели, что в лунном свете зеленовато-блестяще посверкивает река. Вокруг было темно и прохладно. Иногда от аллеи отходили дорожки, которые дугой, вероятно, тоже спускались к реке. Довольно долго царило полное молчание.
— У воды, — сказала она, — есть красивое место, где я уже не раз сидела. Там можно немного поболтать. Смотрите, сквозь листву нет-нет да сверкнет звезда.
Он не отвечал, глядя на зеленую мерцающую поверхность, к которой они приближались. Просматривался противоположный берег, городской вал. Когда они вышли из аллеи на спускающуюся к реке лужайку, госпожа фон Ринлинген сказала:
— Наше место чуть правее. Смотрите, не занято.
Скамейка, на которую они опустились, стояла в шести шагах правее аллеи у самого парка. Здесь было теплее, чем между широкими деревьями. В траве, у воды, переходившей в тонкий камыш, стрекотали кузнечики. Залитая луной река отдавала мягкий свет.
Какое-то время, глядя на воду, оба молчали. Однако затем он вздрогнул и, потрясенный, вслушался, так как его снова коснулся голос, слышанный им неделю назад, этот тихий, задумчивый, нежный голос:
— С каких пор у вас увечье, господин Фридеман? — спросила она. — Вы таким родились?
Он сглотнул, потому что перехватило горло. Затем тихо и учтиво ответил:
— Нет, сударыня. Младенцем меня уронили на пол, поэтому.
— А сколько вам теперь лет? — спросила она еще.
— Тридцать, сударыня.
— Тридцать, — повторила она. — И вы не были счастливы эти тридцать лет?
Господин Фридеман несколько раз тряхнул головой, губы его дрожали.
— Нет, — сказал он. — Это я все лгал и воображал.
— Вы, стало быть, думали, будто счастливы? — спросила она.
— Пытался, — ответил он. И она заметила:
— Отважно.
Прошла минута. Только стрекотали кузнечики и позади совсем тихо шелестели деревья.
— Я немного знаю, что такое несчастье, — сказала она затем. — Такие летние ночи у воды прямо созданы для этого.
На что он не ответил, а слабо махнул рукой в сторону того берега, мирно лежавшего во тьме.
— Там я недавно сидел, — произнес он.
— Когда ушли от меня? — спросила она. Он только кивнул.
Однако затем вдруг судорожно вскочил со скамейки, всхлипнул, испустил жалобный стон, имевший в себе одновременно нечто высвобождающее, и медленно опустился перед ней на землю. Он коснулся руки, покоившейся рядом, на скамейке, и, держа ее, схватив и другую, содрогаясь и сотрясаясь, распростершись перед ней, прижав лицо к ее коленям, этот маленький, такой уродливый человек забормотал нечеловеческим задыхающимся голосом:
— Вы ведь знаете… Позволь мне… Я больше не могу… Боже мой… Боже мой…
Она не сопротивлялась, но и не наклонилась. Она сидела выпрямившись, слегка от него отстранившись, а маленькие, близко посаженные глаза, в которых словно отражалось влажное мерцание воды, неподвижно и напряженно смотрели прямо, выше, вдаль.
А затем вдруг, рывком, с резким, горделивым, презрительным смешком она вырвала руки из горячих пальцев, ухватила его за локоть, отшвырнула на землю, поднялась и исчезла в аллее.
Он лежал, уткнувшись лицом в траву, оглушенный, растерянный, и дрожь то и дело пробегала по его телу. Затем с трутом встал, сделал два шага и снова упал. Он лежал у воды.
Что же происходило в нем после того, как все случилось? Может, это была та сладострастная ненависть, что он чувствовал, когда она унижала его взглядом, и что теперь, когда он валялся на земле, как побитая ею собака, переродилась в безумную ярость, которую необходимо утолить действием, пусть и направленным против себя… Может, отвращение к себе, наполнившее его жаждой уничтожить себя, разодрать себя в клочья, истребить…
Он немного прополз на животе, приподнял туловище и бросил его в воду. Он больше не двинул головой, не двинул даже ногами, лежавшими на берегу.
Когда плеснуло водой, кузнечики на мгновение умолкли. Теперь они вновь вступили, тихонько зашелестел парк, а в длинной аллее послышался приглушенный смех.
Разочарование
Перевод Е. Шукшиной
Признаюсь, речи этого странного господина совсем меня смутили, боюсь, я и теперь еще не смогу повторить их так, чтобы они тронули остальных, как в тот вечер меня самого. Возможно, воздействие заключалось в поразительной открытости, с которой их вел совершенно незнакомый человек…
С того осеннего утра, когда на пьяцца Сан-Марко я приметил этого незнакомца, минуло уже месяца два. По просторной площади бродили несколько человек, а перед волшебным пестрым зданием, пышный сказочный силуэт и золотое убранство которого с восхитительной четкостью вычертились на фоне нежного, светло-голубого неба, на легком морском ветру колыхались знамена; прямо перед главным порталом молодая девушка, рассыпая маис, собрала огромную стаю голубей, а со всех сторон стремительно подлетали еще и еще… Зрелище незабываемо светлой и праздничной красоты.
И тут я его увидел… Пишу — и облик его невероятно отчетливо стоит перед глазами. Чуть ниже среднего роста, идет быстро, ссутулившись, трость обеими руками держит за спиной. Жесткая черная шляпа, светлое летнее пальто и брюки в темную полоску. Почему-то я принял его за англичанина.
Ему могло быть тридцать, а могло быть и пятьдесят. Лицо с толстоватым носом и серыми усталыми глазами гладко выбрито, а на губах постоянно играет непонятная и глуповатая улыбка. Приподнимая брови, он изредка внимательно осматривался, затем снова обращал взгляд в землю, что-то говорил сам себе, тряс головой и улыбался. Так упорно и ходил взад-вперед по площади.
Отныне я видел его ежедневно, поскольку он, кажется, не имел других занятий, кроме как что при хорошей, что при плохой погоде, что до, что после обеда, тридцать или пятьдесят раз профланировать по пьяцца, всегда в одиночестве, всегда в той же странной манере.
Тем вечером, о котором я веду речь, давала концерт военная капелла. Я сидел за одним из небольших столиков, что кафе «Флориан» выдвигает прямо на площадь, и когда по окончании концерта толпа, до сих пор колыхавшаяся плотными волнами, начала рассеиваться, незнакомец, улыбаясь отсутствующей, как всегда, улыбкой, занял место за освободившимся возле меня столиком.
Время шло, вокруг становилось все тише, и вот уже столы повсюду опустели. Медленно прогуливались редкие прохожие; на площади воцарился торжественный мир, небо усеяли звезды, а над роскошным театральным фасадом Сан-Марко встал полумесяц.
Я читал газету, повернувшись к соседу спиной, и собирался уже оставить его одного, как оказался вынужден полуобернуться, поскольку, хоть я до сих пор не слышал ни единого звука, выдававшего его присутствие, он вдруг заговорил.
— Вы, сударь, впервые в Венеции? — спросил он на плохом французском и, когда я попытался ответить ему по-английски, на чистом немецком продолжил тихим, сиплым голосом, который часто старался освежить покашливанием.
— Вы видите все это в первый раз? Ваши ожидания оправдались? — Город их даже превзошел? — Ах, вы не думали, что будет так красиво? — Правда? — Вы говорите это не только, чтобы показаться счастливцем, чтобы вам позавидовали? — Ах! — Он откинулся и, часто моргая, посмотрел на меня с совершенно непонятным выражением на лице.
Наступившая пауза длилась довольно долго, и, не зная, как вести дальше этот странный разговор, я снова вознамерился встать, как он вдруг торопливо наклонился.
— Знаете ли вы, сударь, что такое разочарование? — тихо, настойчиво спросил он, опершись обеими руками на трость. — Не неудача в мелочах, частностях, не какой-то срыв, а большое разочарование, разочарование вообще, которое в человеке вызывает все, вся жизнь? Ну конечно, вы этого не знаете. А я вот с юности с ним живу, оно сделало меня одиноким, несчастным и несколько чудаковатым, не отрицаю.
Да и где вам меня понять, сударь? Но не могу ли я попросить вас две минуты меня послушать? Ибо если это можно сказать, оно скажется быстро…
Вырос я, позвольте заметить, в маленьком городке, в доме пастора, где в стерильно чистых комнатах царил старомодный патетический ученый оптимизм и дышалось своеобразной атмосферой кафедральной риторики — с этими высокими словами о добре и зле, о красоте и уродстве, которые я люто ненавижу, потому что они-то, может, и виноваты во всех моих страданиях.
Жизнь состояла для меня всего-навсего из этих высоких слов, так как кроме вызываемых ими во мне жутковатых, неосязаемых предчувствий я ничего о ней не знал. Я ожидал от людей божественного добра или леденящей душу дьявольщины, ожидал от жизни восхитительной красоты или уродства, я жаждал всего этого — глубокой, боязливой тоски по безбрежной реальности, по потрясениям, не важно какого рода, по опьяняюще-прекрасному счастью или невыразимо, непредставимо страшному страданию.